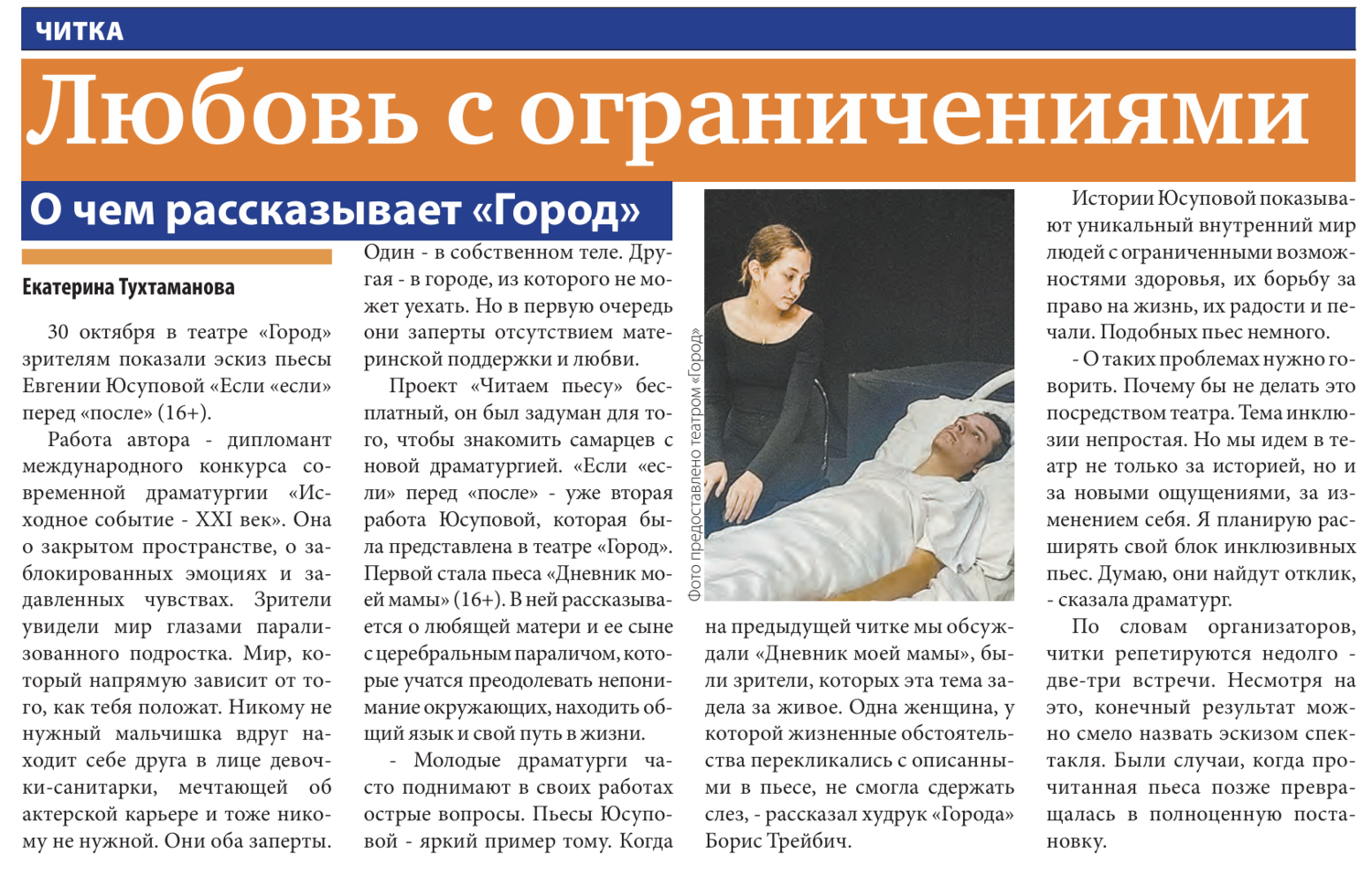Театр «Город» представил на суд зрителя драму-притчу о поглощающем страхе перед лицом природной стихии и чуде любви, которая может существенно менять жизнь человека.
26 октября Самарский театр «Город» им. В. А. Тимофеева показал публике спектакль «Лавина» по пьесе турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу. Как шутили сами артисты перед премьерным показом, наша лавина сойдет теперь в третий раз! По крайней мере, так было в дни подготовки нашего номера в печать.
Метаморфозы
На сцене мы можем наблюдать сдержанную пластику света: тусклое, почти холодное сияние проступает сквозь серые тени гор. Слева и справа две видеопроекции, они словно окна во внешний мир, где времена года сменяют друг друга. Пространство между экранами, как и герои, как будто сковано не одной цепью, а оглушающей тишиной. Любой громкий звук способен не только создать риски, но и внезапно вызвать лавину – и вместе с ней мгновенную гибель. Поэтому жизнь в этом безымянном селении подчинена единственному закону: молчать. Максимум – коммуникация жестами, взглядом. В самом крайнем случае – осторожно шептать. Девять месяцев в году община находится в страхе, три – в радости.
И вот накануне конца опасного периода, когда Весна вступает в свои права, у молодой женщины начинаются боли в животе. Нестерпимые. Потом у окружения появляются справедливые опасения, что это начало родовых схваток.
Радость предстоящего дня рождения новой жизни на наших глазах осуществляет метаморфозу в животный страх, который сильнее первобытных чувств голода и жажды. Ведь естественный крик ребенка в именно этой предлагаемой системе координат означает смерть для всех. Личное счастье сталкивается с суровым законом общины, где страх сильнее сострадания. Так частная, даже камерная драма становится изящной притчей о мире, в котором внешняя опасность давно поселилась в человеческом сознании.
Сюжет, который становится символом
Тунджер Джюдженоглу, признанный классик современной турецкой драматургии, создавал «Лавину» как философскую аллегорию. Ему близка традиция Антона Чехова, Максима Горького, даже Артура Миллера: тщательное исследование обывательского существования, внутренней деградации личности, подчиненной страху. На стене висит ружье, и, кажется, зритель начинает догадываться, что оно является не просто украшением в центре экспозиции.
Режиссер Алексей Романов не только сохраняет, но и углубляет этот замысел. Он лишает действие географической и временной конкретики, подчеркивая универсальность ситуации: любая локация, любое время. В мире спектакля нет национальных красок, но есть то, что объединяет всех: готовность человека отказаться от свободы ради иллюзии безопасности. Действие вполне могло проходить в горах Тибета, в Альпах, а может, и вблизи легендарного библейского Арарата.
Это спектакль, где тишина звучит громче слов. Романов выстраивает действие как акустическую партитуру: каждый шепот становится событием, каждый вдох – действием. Актеры работают на предельной концентрации – через взгляд, дыхание, пластику.
Татьяна Быкова (ей досталась роль Пожилой женщины) – словно воплощение исторической памяти и совести селения. В её неподвижности чувствуются прожитая боль и немая мудрость поколений. Но «правда» в её устах никому не нужна. Она самый беспомощный персонаж из всех, даже чтобы испить чашу воды, она вынуждена просить о помощи другого человека.
Дмитрий Стариков (Пожилой мужчина) создает собирательный образ человека, который боится не смерти, а перемен. В его игре – внутренний надлом от того, что долг и привычка сильнее чувства.
Арина Андреева (Молодая женщина) – одно из открытий спектакля. Её роль лишена эффектных жестов, но наполнена тончайшей эмоцией: тишина вокруг становится продолжением её дыхания.
Данила Казин (Молодой мужчина) точно передает эмоциональную борьбу между любовью и страхом, долгом и отчаянием.
Борис Трейбич (Председатель) – воплощение власти, которая верит в собственную правоту. Его слово звучит как приговор, его «законно» – это ледяной эквивалент насилия.
Все они формируют единое пространство молчаливого существования, где каждый жест становится высказыванием.
Режиссура и визуальный язык
Спектакль во многом построен на контрасте пустоты и внутреннего напряжения. На сцене почти ничего нет – только несколько предметов, превращенных в символы.
Кем-то оставленные обрывки елочной световой гирлянды, хаотичная группа оцинкованных тазов с водой, в разной степени наполненности. Блеклый металлический приглушенный блеск двух канистр – метафора материальной ограниченности мира. Редкий, но мягкий луч света, пробивающийся сквозь сумрак, – напоминание о надежде.
Световая партитура Александра Луганского создает особую фактуру пространства: холодные зеленые и голубые тона сменяются внезапными вспышками золотистой охры или тревожной вызывающей фуксии, будто сама природа реагирует на внутреннее состояние героев.
Музыкальное решение основано на электронных текстурах – пульсирующих, сдавленных, словно имитирующих биение сердца перед ожидаемой катастрофой. Каждая деталь подчинена единой идее: мир живет в ожидании обрушения. И никто не знает, наступит ли оно извне или произойдет внутри человека.
Обращает внимание пластический/геометрический грим актеров. Лица персонажей неестественно белы, словно это не лица людей, а их бледные тени. На каждом из них словно застыли слезы. Но они не символы чистоты и раскаяния, а скорей полная противоположность. Они черны и статичны. У людей «попроще» слезы застыли ручейками вниз, персонажи с более высоким социальным статусом награждены потеками, обращенными вверх, словно законы гравитации и реального мира созданы не для них.
Публика безмолвствует
Пожалуй, главный эффект постановки – физическое вовлечение зрителя в зону тишины. Во время спектакля в зале стояла абсолютная тишина. Люди боялись пошевелиться, словно и они могли вызвать лавину – кашлем, шорохом, неловким движением.
Когда действие завершилось, тишина сменилась глубоким выдохом и долгими аплодисментами. Это было не просто одобрение – скорее акт освобождения.
Именно в этот момент становится ясно: «Лавина» – не история далекого горного селения. Это притча о нашем времени, где страх часто становится законом, а любовь – последним актом сопротивления.
Кстати, Джюдженоглу вдохновился реальным рассказом: в Восточной Анатолии существует селение, окруженное горами, где люди девять месяцев в году живут в молчании, чтобы не спровоцировать сход лавин.
Однако в театре «Город» эта этнографическая основа преобразована в экзистенциальную модель общества, где внешний закон природы становится метафорой внутреннего самоподавления.
Здесь «лавина» – не снег, а страх, не природная угроза, а психологический вирус, передающийся из поколения в поколение. Пьеса Джюдженоглу, написанная более двадцати лет назад, в постановке Романова звучит с пугающей актуальностью: где заканчивается безопасность и когда начинается духовное рабство?
Вердикт
Премьера «Лавины» – одно из самых заметных событий театрального сезона в Самаре. Это не просто сценическая интерпретация восточной драмы-притчи, а серьезное исследование человеческой природы – её границ, страхов и способности к преодолению. Хотя идет вся постановка в хронометраже около 100 минут. Романов выстраивает спектакль как философскую медитацию о хрупком равновесии между жизнью и смертью, между любовью и покорностью. Здесь важно не то, что говорят герои, а то, что звучит между словами. И когда в одной из сцен наконец прорывается голос – это не просто крик персонажа. Это человеческий крик свободы, преодоление тишины, в которой слишком долго жило общество.
Алексей РОМАНОВ, главный режиссер театра «Город» им. В. А. Тимофеева:
- Пьесу предложил Борис Александрович (художественный руководитель театра) в начале декабря 2024 года. Тема произведения зацепила своим исходным обстоятельством (грузная тишина на протяжении девяти месяцев) и идеей автора – молчание не всегда бывает золотым. Решение ставить именно эту пьесу практически сразу возникло из внутреннего согласия с позицией автора, также присутствовало собственное видение реализации спектакля. Актеры нашего театра распределялись по ролям, и появилась возможность привлечь новых ребят (студентов театральных отделений и одаренных выпускников актерских курсов при театре). В начале работы над спектаклем произошла адаптация пьесы под наши возможности и понимание театрального искусства. Я сократил список действующих лиц и реплики, содержащие смысловые повторы без значительного усиления эмоциональной окраски сцены; кардинально переработал в некоторых местах содержание ремарок так, чтобы смысл текста стал противоположным, однако при этом сохранил исходный замысел автора, который мне необходимо было резонировать и усиливать через другие элементы и выразительные средства.
Автор: Андрей БОЛЬШАКОВ
Свежаягазета.Культура|№14–15(301–302)|ноябрь2025